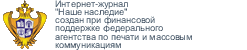Наталья
Михайлова
«Министр,
поэт и друг»
В
те благословенные времена, когда жил Иван Иванович Дмитриев, стихотворцы
нередко сочиняли «надписи к портретам». Например:
Министр,
поэт и друг: я всё тремя словами,
Об нём для похвалы и зависти сказал.
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами!1
Так
в 1810 году Н.М.Карамзин представил министра юстиции Российской империи, поэта
и своего друга. Краткость не помешала точности образа, подтверждаемого
многочисленными свидетельствами современников и самохарактеристикой
И.И.Дмитриева, созданной им в мемуарах «Взгляд на мою жизнь» (1825):
«Без
покровителей, без происков, без нахальных требований счастлив был в чинах и
отличиях, и все это, кроме чистейшей благодарности, ничего мне не стоило.
<…> Как бы то ни было, но я должен быть признателен к счастливой звезде
моей: едва кто из моих современников преходил авторское поприще с меньшею
заботою и большею удачею»2.
Что
же касается дружества, о котором идет речь в выше приведенном четверостишии,
то, быть может, о даре дружбы И.И.Дмитриева лучше всего судить по его
отношениям именно с Н.М.Карамзиным, с которым он, десятилетний отрок,
встретился впервые в 1770 году на свадебном пиру в Симбирске. «Увидел я в
первый раз пятилетнего мальчика в шелковом перувьеневом камзольчике с рукавами,
— вспоминал Дмитриев. — Это был будущий наш историограф Карамзин»(286–287).
Живя позже в Москве, они виделись почти каждый день. В разлуке личное общение
заменяла переписка — известно 358 писем Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву (ответные
письма к сожалению, не сохранились). В «Московском журнале», издававшемся
Карамзиным в 1790–1792 годах и начал печататься Дмитриев. Здесь увидели свет
многие стихотворения, которые прославили его имя. И.И.Дмитриев дорожил мнением
Карамзина: «С каким нетерпеньем ожидал от него отзыва! С какою радостию получал
его! С каким удовольствием видел стихи мои уже в печати! Каждое слово моего
доброго друга было поощрением для дальнейших стихотворных занятий»3.
Заслуги
Дмитриева перед Отечеством неоспоримы. Он прошел военную службу, преуспел на
поприще статском, будучи товарищем министра в Департаменте уделов,
обер-прокурором Сената, членом Государственного совета, министром юстиции.
Утверждая
в поэзии чистоту слога, гармонию и вкус, реформируя литературный язык,
И.И.Дмитриев оставил обширное литературное наследие. Ему принадлежат
сатирические и лирические стихотворения, стихотворные сказки, басни, дружеские
послания, мадригалы, альбомные стихи, эпиграммы. Стихи его почитались
современниками образцовыми. Без мемуарной и эпистолярной прозы Дмитриева наше
представление о русской истории, литературе, культуре и быте конца XVIII – первой трети XIX века было бы существенно
неполным.
Коротко
общавшийся с Г.Р.Державиным, знавший Д.И.Фонвизина и И.А.Крылова, И.И.Дмитриев
был близок с В.А.Жуковским и П.А.Вяземским. А.С.Пушкина он знал с детских лет,
восхищался его поэтическим гением. И.И.Дмитриев любил литературную молодежь,
которая почитала патриарха русской поэзии. Как писал П.А.Вяземский, вокруг
И.И.Дмитриева «сновалась» вся русская литература его времени.
Благородство
и независимость отличали его. О притягательности его личности свидетельствуют
уважение и искренняя привязанность к нему многих замечательных людей.
Уроженец
Симбирской губернии, И.И.Дмитриев многие годы провел в Москве, став своего рода
достопримечательностью первопрестольной.
Стихи
Дмитриева до сих пор живут в нашей культуре. Правда, в отдельных крылатых
выражениях, фразах, эпиграфах и т.д., но живут. Когда мы, например, говорим,
что кто-то беззастенчиво присваивает чужой труд, то иронически произносим: «Мы
пахали!» А ведь это слова из басни И.И.Дмитриева «Муха». Кто сейчас
отождествляет эти слова с именем Дмитриева? Седьмую московскую главу «Евгения
Онегина» предваряет эпиграф из стихотворения И.И.Дмитриева «Освобождение
Москвы». Но кто из наших современников читал это стихотворение? Для того чтобы
узнать, что И.И.Дмитриев встречался с Татьяной Лариной у ее скучной тетки, надо
заглянуть в комментарий к пушкинскому роману. Всегда ли это делают читатели?
На
выставке в Государственном музее А.С.Пушкина, приуроченной к 250-летнему юбилею
И.И.Дмитриева, были показаны ценнейшие материалы из многих музеев, архивов,
библиотек: портреты И.И.Дмитриева, его автографы, письма к нему, прижизненные
издания и около трехсот томов, среди которых и книги с инскриптами из его
богатейшей библиотеки. Впервые воссоединились реликвии, связанные с
И.И.Дмитриевым, и во многом по-новому раскрылся его облик.
В
1799 году, в год рождения Пушкина, Дмитриев вышел в отставку и переехал из
Петербурга, где он находился на государственной службе, в Москву. Он жил в
собственном доме у Красных ворот в приходе церкви Святого Харитония. К этому
времени И.И.Дмитриев — известный поэт. Своим успехам на поприще литературы он
обязан публикациям именно в московских карамзинских изданиях — в «Московском
журнале», в альманахах «Аглая» и «Аониды». Да и позднее большая часть книг
И.И.Дмитриева печаталась в Москве.
А
впервые он увидел Москву в 1773 году. Его семейство спешно покинуло Симбирск, спасаясь
от приближающегося пугачевского войска. Одно из первых впечатлений
тринадцатилетнего подростка — московские книжные лавки и московский театр.
«Посещение книжных лавок было любимою моею прогулкою, — вспоминал он
впоследствии. — Большая их часть закрывала собою от Воскресенских ворот древнюю
церковь Василия Блаженного» (277–278). Запомнились ему и итальянская опера, и
народная комедия.
В
1775 году И.И.Дмитриев, служа в гвардейском Семеновском полку и оказавшись в
Москве, стал свидетелем казни Пугачева на Болотной площади. Об этом написал он
в своих записках, которые еще в рукописи были известны А.С.Пушкину, включившему
в «Историю пугачевского бунта» рассказ «очевидца, в то время едва вышедшего из
отрочества, ныне старца, увенчанного славою поэта и государственного мужа»4.
И в «Капитанской дочке» казнь вождя народного движения описана им со слов
И.И.Дмитриева.
Великому
городу посвятил И.И.Дмитриев стихотворение-панегирик «Освобождение Москвы», где
речь идет о победе над польскими интервентами в 1612 году.
В
каком ты блеске ныне зрима,
Княжений знаменитых мать!
Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Венец твой перлами украшен;
Алмазный скиптр в твоих руках;
Верхи твоих огромных башен
Сияют в злате, как в лучах;
От Норда, Юга и Востока —
Отвсюду быстротой потока
К тебе сокровища текут;
Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А девы — розами цветут (29-30).
Конечно
же, не случайно Пушкин предварил московскую главу «Евгения Онегина»
дмитриевскими строками из приведенного отрывка — «Москва, России дочь любима,
// Где равную тебе сыскать?» Стихи Дмитриева отзываются и в пушкинском описании
его встречи с родным городом:
Но
вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар крестами золотыми
Горят старинные главы…(VI,154)
О
Москве писал Дмитриев и в послании «К Г.Р.Державину», и в стихотворной сказке
«Причудница», где представил старинный быт московских бояр с качелями,
кукольным театром, прогулками в Марьиной Роще и, разумеется, со знаменитым
московским хлебосольством. «Что матушки Москвы и краше и милее?» — говорится в
ней.
И.И.Дмитриев
начал службу при Екатерине II. По ложному доносу он был
обвинен в заговоре против Павла I.
Когда же клевета не подтвердилась, император определил его на высокие
государственные посты. Министр юстиции при Александре I, поэт был обласкан и этим императором. С
неудовольствием царь принял его прошение об отставке, но затем назначил
председателем Комиссии по оказанию помощи москвичам, пострадавшим от нашествия
французской армии. Ревностная служба И.И.Дмитриева в этой должности была высоко
оценена. Он получил чин действительного тайного советника, был награжден
орденом Святого Владимира. Возглавляемая им Комиссия рассмотрела более двадцати
тысяч прошений, из которых пятнадцать тысяч удовлетворила.
В
1826 году в Москве, в день коронации Николая I, И.И.Дмитриев, «преждебывший министр юстиции», в
числе почетных гостей был среди членов Государственного совета, Сената,
министров. Присутствовал он и на торжественном обеде в Грановитой палате.
Ежедневные
прогулки по Москве составляли одно из удовольствий И.И.Дмитриева. Наблюдая
московскую жизнь, он прислушивался к народной речи, замечал забавные сценки
(недаром П.А.Вяземский называл его «подглядатаем всего смешного»), а потом
рассказывал о своих наблюдениях. Рассказы его сохранились в дневниках и
мемуарах современников. И благодаря им мы можем оценить остроумие старого
поэта.
«Дмитриев
гулял по Кремлю в марте месяце 1801 года. Видит он необыкновенное движение на
площади и спрашивает старого солдата, что это значит. ”Да съезжаются, — говорит
он, — присягать государю”. — “Как присягать и какому государю?” — “Новому” —
“Что ты, рехнулся, что ли?” — “Да, императору Александру”. — “Какому
Александру?” — спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный
словами солдата. “Да Александру Македонскому, что ли!” — отвечает солдат»5.
«Я,
право, иногда боюсь, чтобы мужики наши не заговорили по-французски, а мы
по-ихнему <…> Да мне уже и удалось подслушать на улице пьяного каменщика,
приветствовавшего своего товарища: “Бонжур, мусье”, а в гостиной
крестьянку-кормильцу; она, поднося к ее сиятельству двухлетнюю Додо или Коко
(не помню), толкала ее в затылочек и повторяла: “скажи, матушка, мерси, мерси”»6.
«Иван
Иванович трунил над застенчивым Антоном Антоновичем Антонским, профессором,
преподавателем медицинских и естественных наук, директором Благородного
пансиона: “Признайтесь, любезнейший Антон Антонович, <…> ваш университет
— совершенно безжизненное тело: о движении его и догадываешься только, когда
едешь по Моховой и видишь сквозь окна, как профессора и жены их переворачивают
на солнце большие бутылки с наливками»7.
И.И.Дмитриев
часто бывал в Московском университете на заседаниях Общества любителей
Российской словесности, в Английском клубе, в театре и, конечно же, в гостях у
знакомых, среди которых были С.Л. и В.Л. Пушкины, А.Л.Пушкина (родная тетушка
А.С.Пушкина), в которую он был безнадежно влюблен (по-видимому, из-за нее он
никогда и не женился).
Дом
И.И.Дмитриева у Красных ворот сгорел в пожаре 1812 года. Через два года он
поселился на Спиридоньевке близ Никитских ворот. Новое его жилище было
построено по проекту архитектора Витберга.
Сад,
который поэт любовно украшал цветами и растениями, окружал дом. «Подарок
деревом или цветком, — считал И.И.Дмитриев, — прочнее прочего служит нам
памятником дружбы или приязни» (364). Получал он растения из университетского
ботанического сада.
Библиотека
И.И.Дмитриева хранится теперь в Научной библиотеке МГУ и насчитывает около
12000 томов. «Прадедушка мой, дедушка, батюшка — все были охотники для чтения и
от всех остались собрания книг», — вспоминал поэт. Основная и самая ценная
часть библиотеки — книги, собранные самим поэтом, а также книги, принадлежавшие
его племяннику, литератору М.А.Дмитриеву. Последним владельцем библиотеки был
профессор Московского университета, историк права, сенатор Ф.М.Дмитриев. В 1904
году уникальное книжное собрание семья Дмитриевых передала в дар Императорскому
Московскому университету. После смерти П.П.Бекетова, историка и издателя,
двоюродного брата И.И.Дмитриева, в книжное собрание поэта попали издания,
напечатанные в знаменитой бекетовской типографии в Москве, многие из книг — в
единственном экземпляре, в красных марокеновых переплетах с золотыми обрезами.
Ивана Ивановича интересовала всеобщая история, мемуары, исторические анекдоты,
путешествия. Он собирал иллюстрированные издания. Книги XVIII — первой трети XIX века на русском, французском,
немецком языках, альманахи, сборники поэзии и прозы, хранящиеся в его
библиотеке, широко представляют русскую и европейскую литературу. На многих
книгах, на задних форзацах — записи И.И.Дмитриева, в которых он указывал её
цену, стоимость заказанного переплета. Но, разумеется, наиболее интересны
издания с автографами — Н.М.Карамзина, В.А.Жуковского, Е.А.Баратынского,
К.Н.Батюшкова, П.А.Вяземского, И.Ф.Богдановича, А.С.Пушкина и многих других
авторов, которые почитали за честь преподнести И.И.Дмитриеву свои сочинения.
В.А.Жуковский
на обложке двуязычного издания — на немецком и русском языках — поэтического
сборника переводов немецких поэтов «Для немногих», изданного в Москве в 1818
году для великой княгини Александры Федоровны, которую он обучал русскому
языку, написал: «Его Превосходительству Ивану Ивановичу Дмитриеву от Арзамасца
Светланы». На форзаце — запись М.А.Дмитриева: «Чрезвычайно редка, напечатана в
малом числе экземпляров и никогда не продавалась».
Один
из наиболее близких к И.И.Дмитриеву младших его современников, П.А.Вяземский,
автор первой биографии поэта, напечатанной при его жизни, ценил общение с ним.
Он подарил И.И.Дмитриеву свой перевод романа Бенжамена Констана «Адольф»,
вышедшего в свет в Петербурге в 1831 году, с надписью: «Его
Высокопревосходительству Ивану Ивановичу Дмитриеву. На память и в знак душевной
преданности от переводчика».
Свои
«Опыты в стихах и прозе» К.Н.Батюшков преподнес И.И.Дмитриеву со словами: «Его
превосходительству Милостивому Государю Ивану Ивановичу Дмитриеву в знак
глубочайшего почтения и преданности от Автора. С. Петербург. 1817».
И.И.Дмитриев
сообщал А.И.Тургеневу 2 августа 1817 года: «Недавно я имел удовольствие
получить первый том Батюшковских «Опытов». Уверен, что всякий, умеющий ценить
хорошее, признает его истинным литератором, с размышляющим умом, с благородными
чувствами и тонким вкусом»8
Граф
Д.И.Хвостов имел обыкновение дарить Дмитриеву многочисленные творения своей
плодовитой музы. Иван Иванович рассказывал об этом так: «Он пришлет ко мне оду,
или басню; я отвечаю ему: «Ваша ода, или басня, ни в чем не уступает старшим
сестрам своим!» Он и доволен. А между тем это правда»9.
Кто
только не бывал в доме И.И.Дмитриева на Спиридоньевке — А.Ф.Малиновский,
историк, археограф, писатель, начальник Московского архива Коллегии иностранных
дел, граф Ф.В.Растопчин, в 1812–1814 годах московский губернатор, А.И.Тургенев,
археограф, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий, камергер
— он доставал для хозяина редкие книги. Гость Ивана Ивановича граф Д.Н.Блудов,
когда был поверенным в делах русского посольства в Англии, присылал ему книги
из Лондона. Среди гостей Дмитриева — литератор и театрал С.П.Жихарев,
Д.В.Дашков, с 1832 года — министр юстиции, М.П.Погодин, историк и писатель,
профессор Московского университета. К Дмитриеву приходил молодой Н.В.Гоголь.
Е.А.Баратынский в 1835 году поселился в Москве напротив дома Дмитриева, и они
часто встречались. Денис Давыдов, пообедав у Ивана Ивановича, считал этот день
— 21 апреля — одним из приятнейших дней своей жизни Антон Дельвиг 18 февраля
1828 года писал Пушкину: «…проезжая первопрестольный град Москву, ходил я на
поклонение к поклоняемому и славимому Ивану Ивановичу Дмитриеву» (XIV, 4). На Спиридоньевке встречали
Н.М.Карамзина, П.А.Вяземского, К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, А.Ф.Воeйкова, который в шутливом
«Парнасском Адрес-Календаре», в «росписи чиновных особ, служащих при дворе
Феба» писал: «И.И.Дмитриев, действительный поэт 1 класса. По прошению уволен от
поэзии в царство дружбы и славы с ношением лаврового венка»10.
К
Ивану Ивановичу часто приходили его близкие друзья — московские стихотворцы
В.Л.Пушкин и П.И.Шаликов. Племянник поэта М.А.Дмитриев вспоминал: «Как скоро
дядя бывал вечером один и ему было скучно, он приказывал, бывало, слуге: “Вели
заложить Пегаса и ехать за князем Шаликовым!” Это была пегая лошадь, которую
закладывали в дорожки или в сани и привозили князя Шаликова»10.
Дмитриев
и к П.И.Шаликову, и к В.Л.Пушкину, чью дружбу он искренне ценил, относился с
доброй иронией. Когда в Москве выступала знаменитая певица Каталани и князь
Шаликов откликнулся на ее выступление восторженной статьей в «Московских ведомостях»
(он был издателем этой газеты), а восхищённый В.Л.Пушкин — французским
катреном, то Иван Иванович сочинил шутливые стихи:
Что
Шаликов сказал в газетах Каталани?
Что у него язык присох к гортани.
А Пушкин что промолвил ей?
Что у него глаза и пара есть ушей.11
Особенно
любил Дмитриев литературную молодежь. Когда во цвете лет из жизни ушел Дмитрий
Веневитинов, потрясенный Иван Иванович написал эпитафию:
Природа
вновь цветет, и роза негой дышит!
Где юный наш певец? Увы, под сей доской!
А старость дряхлая дрожащею рукой
Ему надгробье пишет! (234)
Всех
гостей Ивана Ивановича не перечислить. Их привлекал дом на Спиридоньевке,
богатейшая библиотека, украшенная бюстами императоров, философов и писателей,
коллекция эстампов (среди которых особое место занимали портреты Наполеона),
гостеприимный хозяин, увлекательная беседа с ним, его остроумие. Конечно же,
литература была одной из главных тем этих бесед.
«Кем-то
было сказано: “Стихи мои, обрызганные кровью”. “Что ж, кровь текла у него из
носу, когда писал он их?” — спросил Дмитриев».12
«Дмитриев
рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему и заставал его за
письменным столом с пером в руках: “Что это вы пишите, — часто спрашивал он
его, — нынче кажется не почтовый день”»13.
После
смерти И.И.Дмитриева Вяземский с грустью вспоминал встречи с ним в
стихотворении «Дом И.И.Дмитриева»:
Я
помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям своим был рад,
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
Улыбка светлая и прелесть умной речи.
Он в свете был министр, а у себя поэт,
Отрекшийся от всех соблазнов и сует;
Пред старшими был горд заслуженным почетом:
Он шел прямым путем и вывел честным счетом
Итог своих чинов и почестей своих.
Он правильную жизнь и правильный свой стих
Мог выставить в пример вельможам и поэтам,
Спесь щекотливую охотно забывал;
Он ум отыскивал, талант разузнавал,
И где отыскивал — там, радуясь успеху,
Не спрашивал: каких чинов они иль цеху?14
Еще
ребенком А.С.Пушкин видел И.И.Дмитриева в доме своих родителей. Когда Иван
Иванович заметил смуглого кудрявого мальчика, он воскликнул: «Какой арабчик!»
«Арабчик, да не рябчик», — дерзко ответил ему малыш (лицо Дмитриева было
испещрено следами от оспы). По остроумному замечанию одного пушкиниста,
«арабчик — рябчик» — первая известная нам рифма Пушкина. С детских лет он знал
стихи И.И.Дмитриева. В лицейском стихотворении «Городок» «Ванюша Лафонтен»
(Дмитриев переводил басни прославленного французского баснописца, сам писал
басни, снискавшие успех у читателей — потому и заслужил почетное титло русского
Лафонтена) назван среди других авторов, произведения которых Пушкин читал в
юности. Так случилось, что Дмитриев не оценил по достоинству первую книгу
А.С.Пушкина — поэму «Руслан и Людмила». 18 октября 1820 года он писал
П.А.Вяземскому: «Я нахожу в нем много блестящей поэзии, легкости в рассказе, но
жаль, что впадает в бурлеск» (399). Впоследствии И.И.Дмитриев, сожалея о том,
что на его долю достался Пушкин «дядя», а на время потомства — Пушкин
«племянник», относился к произведениям Александра Сергеевича с неизменным
интересом (книги с автографами Пушкина, подаренные Дмитриеву, хранятся в
Петербурге в ИРЛИ РАН — Пушкинском Доме), восторженно отзывался о них. «Вы не
только поэт — протей, но и сердцевед, и живописец, и музыкант» (410) , — писал
он Пушкину 1 февраля 1832 года. Когда Пушкина не стало, Иван Иванович глубоко
скорбел о его трагической гибели. «Тяжело, а часто будем вспоминать его,
любезный Василий Андреевич, — сокрушался он в письме к В.А.Жуковскому 26 марта
1837 года. — Думал ли я дождаться такого с ним катастрофа? Думал ли я пережить
его?» (422) Иван Иванович Дмитриев скончался в том же году, что и А.С. Пушкин,
будучи старше его на 39 лет.
Для
Пушкина поэзия Дмитриева явилась значительной частью той поэтической культуры,
которая воспитала его музу. По свидетельству Вяземского, он «незадолго до
смерти перечитывал произведения Дмитриева и говорил о них с живейшим участием и
уважением». Пушкинские стихотворения, поэма «Граф Нулин», роман в стихах
«Евгений Онегин» включают цитаты и реминисценции из поэзии Дмитриева. Далеко не
все их них отмечены в научной литературе, а некоторые примеры нуждаются в
уточнении. Позволим себе привести несколько наблюдений, заслуживающих, на наш
взгляд, внимания.
В
первой главе «Евгения Онегина» Пушкин, описывая петербургских дам, упоминает
«модных жен». В известном комментарии к роману Ю.М.Лотманом сказано, что Пушкин
«имел в виду в первую очередь сатирическую “сказку” И.И.Дмитриева “Модная
жена”». В самом деле, в сказке И.И.Дмитриева жена — модница
Супругу
говорит: «Послушай, жизнь моя,
Мне к празднику нужна обнова:
Пожалуй, у мадам Бобри купи тюрбан;
Да слушай, душенька: мне хочется экран
Для моего камина;
А от нее ведь три шага
До английского магазина;
Да если б там еще... нет, слишком дорога!
А ужасть как мила!» — «Да что, мой свет, такое?»
— «Нет, папенька, так, так, пустое...
По чести, мне твоих расходов жаль».
— «Да что, скажи, откройся смело;
Расходы знать мое, а не твое уж дело».
«Меня... стыжусь... пленила шаль…» (69-70)
Но
модная жена — еще и неверная жена. Дмитриев описывает в сказке забавную сценку:
модная жена скрывает от внезапно явившегося обманутого мужа своего друга
Миловзора, хитростью дает ему возможность незаметно уйти.
В
«Евгении Онегине» на петербургском балу «…Ревом скрыпок заглушен // Ревнивый
шепот модных жен». Нужно помнить сказку Дмитриева, чтобы понять нюансы
пушкинской насмешки: его модные (неверные) жены, каких в свете много,
оказывается, еще и ревнивы.
Читатели
пушкинского времени хорошо знали «Модную жену» И.И.Дмитриева, опубликованную
впервые в «Московском журнале» в 1792 году, к которой их отсылал пушкинский
текст. Она пользовалась большой популярностью, многие ею восхищались.
В.Л.Пушкин ставил это сочинение наравне с творениями Державина и Карамзина:
Люблю
Державина творенья,
Люблю я «Модную жену»,
Люблю для сердца утешенья
Хвалу я петь Карамзину.15
В
«Старой записной книжке» Вяземского есть рассказ о госте Дмитриева — московском
священнике: «Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог
проповедей его. Дмитриев <…> защищал его. “Да помилуйте, ваше
превосходительство, — сказал ему однажды священник, — ну таким ли языком писана
ваша «Модная жена?”»16
По
свидетельству Ф.Ф.Вигеля, «…“Модную жену” <…> начали дамы знать наизусть»17
А.С.Пушкин
высоко ценил эту стихотворную сказку Дмитриева. В лицейском «Послании
В.Л.Пушкину» он комплиментарно представил ее создателя как «Того, которого рука
// Нарисовала<…> // И мужа модного рога» (I, 251).
В
письме от 15 марта 1825 года Л.С.Пушкину и П.А.Плетневу об издании своих
стихотворений, там где речь шла о возможной виньетке, Пушкин процитировал
«Модную жену»: «Что, если б волшебная кисть Ф.Толстого… —
Нет!
Слишком дорога!
А ужасть, как мила!..» (XIII, 153)
Созданная
Пушкиным в Михайловском в 1825 году шутливая поэма «Граф Нулин» — это
своеобразная вариация на тему «Модной жены» И.И.Дмитриева. Не случайно в
«Опровержении на критики» (1830) Пушкин сопоставил «Графа Нулина» и «Модную
жену» — «сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа». Заметим, что обе
героини, модная жена Премила и Наталья Павловна, иронически сравниваются с
Лукрецией — знатной римлянкой, которая, будучи обесчещенной, покончила с собой
(в литературе XVIII — начала XIX века Лукреция упоминалась как
образец женской добродетели.)
В
комментариях к «Евгению Онегину» до сих пор не указано, что среди возможных
источников «чудного сна» Татьяны — стихотворная сказка Дмитриева «Причудница».
Героиня этой сказки во сне оказывается
Средь
страшных Муромских лесов,
Жилища ведьм, волков,
Разбойников и злых духов (87).
Обращает
на себя внимание перекличка текстов А.С.Пушкина и И.И.Дмитриева. Сравним:
Пушкин:
Лай,
хохот, пенье. Свист и хлоп.
Людская молвь и конский топ (VI,
104).
Дмитриев:
То
по лесу раздался хохот,
То вой волков, то конский топот (88).
Пушкин:
Татьяна
ах! А он реветь. (VI, 102)
Дмитриев:
Ветрана
ж: ах! И пробудилась (88).
Некоторые
характеристики тех, кто представляет в «Евгении Онегине» большой свет,
восходят, на наш взгляд, к эпиграмматическим «Надписям к портретам», сочиненным
насмешливым И.И.Дмитриевым.
Какой
ужасный, грозный вид!
Мне кажется, лишь скажет слово,
Законы, Трон — все пасть готово…
Не бойтесь, он на дождь сердит (238).
Развертывая
эту «Надпись к портрету», раскрывая заключенные в ней возможности гротескного
изображения, А.С.Пушкин создает сатирический образ «на все сердитого
господина»:
Тут
был на эпиграммы падкий,
На все сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный,
На ложь журналов, на войну,
На снег и на свою жену (VI, 176).
Когда
Пушкин иронично упоминал об «академике в чепце», имея в виду ученых дам, то не
исключено, что этот образ восходит к «Посланию от английского стихотворца Попа
к доктору Арбутнору», переведенному Дмитриевым: «автор в чепчике», то есть
дама, имеющая претензии считаться поэтессой, названа здесь в ряду других
незадачливых стихотворцев, «дождящих стихами». Это тем более вероятно, что
Вяземский сохранил высокую пушкинскую оценку этого перевода «Послания…»:
«Сейчас перечитал я переводы Дмитриева латинского поэта и английского Попа.
Удивляюсь и любуюсь силе и стройности шестистопного стиха его»19.
Цитата
из И.И.Дмитриева включена и в стихотворение Пушкина «Стансы» («В надежде славы
и добра»), при этом она существенно изменяет смысл пушкинского текста.
Напомним, что «Стансы» были написаны в 1826 году после возвращения поэта в
Москву из Михайловской ссылки и адресованы Николаю I, только что вступившему на российский престол. В
этом стихотворении Пушкин, сравнивая Николая I с его «пращуром» Петром I, предлагал новому царю, по существу, программу его
царствования: в рассказе о «начале славных дней Петра», о его самодержавном
правлении речь шла о просвещении и милосердии, о трудах и воинских подвигах на
благо «страны родной». Некоторые современники Пушкина, среди которых были
декабристы, обвинили его в верноподданной лести. Вокруг «Стансов» до сих пор
идут споры исследователей, недоумевающих, как поэт почти одновременно со
«Стансами» мог написать «Послание в Сибирь» («Во глубине сибирских руд»). В
данном случае существенна выявленная нами цитата из стихотворения И.И.Дмитриева
«К А.Т.С<евериной>», включенная в «Стансы». Сравним:
Пушкин:
Семейным
сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен (III,40).
Дмитриев:
Будь
честен, будь умен, чувствителен, незлобен,
Приятен, мил — во всем будь маменьке подобен (164).
Так
Дмитриев в своем стихотворении, напечатанном в «Московском журнале» в 1791
году, обращался к младенцу, сыну Анны Григорьевны Севериной, родившемуся в 1791
году, Дмитрию Петровичу Северину, ставшему впоследствии товарищем Пушкина по
«Арзамасу».
Цитата
из Дмитриева представляется бесспорной: «Во всем будь маменьке подобен» — «Во
всем будь пращуру подобен». Возможно и рифма «незлобен — подобен»
позаимствована у И.И.Дмитриева.
Как
заметил О.Э.Мандельштам: «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада.
Неумолкаемость ей свойственна»20. Зная стихотворение И.И.Дмитриева,
из которого происходит цитата, в «Стансах» императора можно представить чуть ли
не в образе дитяти, к которому автор обращается с поучениями. Они сопоставимы,
на наш взгляд, с теми, которые есть в шутливой стихотворной записи Пушкина,
оставленной им в альбоме сына Вяземского:
Душа
моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то.
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный (III,55).
Цитата
из Дмитриева неожиданно меняет для вдумчивого читателя смысл пушкинских
«Стансов», придавая тексту даже некоторый иронический оттенок. Она позволяет
объяснить ранее не вполне понятное суждение П.А.Катенина, который считал, что
«Стансы» — «плутовские», в них Пушкин «перетолковывает» «все на другой лад»21.
Иронический смысл, который вдруг обретают пушкинские стихи благодаря цитате из
Дмитриева, исключает обвинение автора «Стансов» в лести. Кроме того, на наш
взгляд, таким образом снимается и кажущееся противоречие между «Стансами» и
«Посланием в Сибирь».
И
последнее. 11 июня 1834 года А.С.Пушкин писал жене из Петербурга: «…Летний сад
мой огород. Я вставши от сна иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в
нем, читаю и пишу. Я в нем дома» (XV,
157). Но ведь и здесь — цитата из И.И.Дмитриева: «Летний сад мой огород» —
«Эрмитаж мой огород». Это из песни «Видел славный я дворец», в свое время очень
популярной:
Видел
славный я дворец
Нашей матушки-царицы;
Видел я ее венец
И златые колесницы.
«Всё
прекрасно!» — я сказал
И в шалаш мой путь направил:
Там меня мой ангел ждал,
Там я Лизоньку оставил
<…>
Эрмитаж
мой — огород,
Скипетр — посох, а Лизета —
Моя слава, мой народ
И всего блаженство света! (181–182)
В
этом стихотворении И.И.Дмитриева 1794 года как нельзя лучше отражены те
эстетические и нравственные ценности сентиментализма, которые более четверти
века спустя сохраняли свое значение для А.С.Пушкина: любовь и быт взамен власти
и славы, свобода в уединенной жизни вдали от светской суеты. Быть может, и
сегодня нам нужно прислушаться к старому поэту Ивану Ивановичу Дмитриеву,
открыть книгу его стихов и погрузиться в мир его мысли и поэзии?
Примечания
1
Карамзин Н., Дмитриев И. Избранные стихотворения. Л., 1953. С. 241.
2
Дмитриев И.И. Сочинения. М., 1986. С. 367, 325. В последующем произведения и
письма И.И.Дмитриева, кроме особо оговоренных, цитируются по этому изданию с
указанием в тексте страницы арабскими цифрами.
3
Дмитриев И.И. Сочинения. В 2-х т. СПб., 1895. Т. 2. С. 49.
4
Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 17 т. Т. IX. М.; Л., 1938. С. 79. В последующем произведения и
письма А.С.Пушкина, а также письма к нему цитируются по этому изданию с указанием
в тексте в скобках тома римской, страницы — арабской цифрами.
5
Вяземский П.А. Старая записная книжка // Полн. собр. соч. Т. VIII. СПб., 1883. С. 310.
6
Дмитриев И.И. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. СПб., 1895. С. 315.
7
Вяземский П.А. Указ. соч. С. 324.
8
Дмитриев И.И. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. СПб., 1895. С. 228.
9
Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 122.
10
Воейков А.Ф. Дом сумасшедших. Парнасский адрес-календарь. М., 1911. С.
70.
11
Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 133.
12
Старина и новизна. СПб., 1898. Т. 2. С. 138.
13
Вяземский П.А. Указ. соч. С.125.
14Там
же. С. 56.
15
Вяземский П.А. Избранные стихотворения. М.; Л., 1935. С. 303.
16
Пушкин В.Л. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 142.
17
Вяземский П.А. Старая записная. С. 71.
18
Вигель Ф.Ф. Записки. В 2-х т. Т. I. М., 1928. С. 302.
19
Цит по: Дмитриев И.И. Сочинения. М., 1986. С. 448.
20
Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. М., 1984. С. 10.
21
Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина. В 4-х т. Т. 2. М., 1999. С. 371-372.