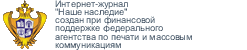Александра Смык,
фото Ивана Хилько
Стеклянное царство Лемкулей
Среди
отечественных коллекционеров художественного стекла наиболее известна семья Лемкуль. Вот уже почти восемь лет как в экспозиции Музея
личных коллекций на Волхонке свое постоянное место занимает их уникальное
собрание. Насчитывающее около трехсот предметов, оно является крупнейшим
частным «стеклянным» собранием в России, а обладая
весьма содержательным материалом, позволяющим последовательно проследить
практически всю историю мирового стеклоделия, вполне сопоставимо и с самыми
значительными музейными коллекциями.
Супруги Лемкуль прожили вместе шестьдесят лет, почти тридцать из
них посвятили собирательству, которое стало и страстью, и целью жизни этих двух
людей.
Федор
Викторович Лемкуль, талантливейший иллюстратор
детских книг, родился в 1914 году. Его отец имел немецкие корни, а мать —
английские. Начал рисовать Ф.В.Лемкуль еще в ранней
юности. Первоначальное художественное образование
получил в московском Государственном Полиграфическом техникуме, который в то
время выпускал художников книги, — там он учился вместе с будущим знаменитым
мультипликатором Федором Хитруком, на всю жизнь
оставшимся его близким другом. Основным своим учителем Лемкуль
считал замечательного советского графика П.А.Алякринского,
который много дал молодому художнику, как в смысле профессионального
мастерства, так и в понимании искусства.
Окончив
техникум в 1938 году, Лемкуль начал работать в
различных московских издательствах и детских журналах, а когда началась Великая
Отечественная война, пошел на фронт, после которого уже окончательно и навсегда
вернулся к своей профессии, всецело посвятив себя работе детского книжного
графика, проиллюстрировавшего к концу своей жизни более 130 изданий. Долгое время возглавляя секцию графики в МОСХе,
Ф.В.Лемкуль принадлежал к поколению реформаторов
детской книги.
Среди созданных
им героев — любимые всеми Пиноккио, Айболит, пан
Ниточка, герои стихов Д.Хармса, К.Чуковского, А.Барто, С.Михалкова, персонажи русских, латышских,
чешских, итальянских, польских, английских, болгарских сказок.
Гармоничность
личности художника отразилась и в коллекционировании столь хрупкого и
прекрасного материала, как художественное стекло. Даже на иллюстрациях и
рисунках, созданных Лемкулем, можно нередко встретить
любимые предметы из его собрания.
Формировалось
же оно при самом деятельном участии жены художника — Екатерины Петровны, —
именно она «играла первую скрипку» в создании облика коллекции
и ее научной обработке.
Еще до войны
Федор Викторович женился на Екатерине Петровне Шумской,
дочери коллекционера живописи и фарфора Петра Андреевича Шумского.
С детства окруженная произведениями искусства, она и сама окончила
театроведческий факультет ГИТИСа, где училась у
известного искусствоведа Н.М.Тарабукина, прекрасно
знала несколько иностранных языков, занималась переводами.
Жили они тогда
рядом с Арбатом, в Староконюшенном переулке, 35, в так называемом щукинском особняке, который с 1902 года занимал знаменитый
русский коллекционер западноевропейской живописи Д.И.Щукин, разместивший во
всех двадцати комнатах свое прекрасное собрание. Впоследствии в этих же
комнатах (но, разумеется, не во всех) поселилась и семья Шумских.
Как вспоминает Елена Михайловна Макасеева, которая с
родителями-коллекционерами также жила в этом доме, картины из собрания Шумских и Макасеевых висели на
стенах так, что их было видно в окна прохожим с улицы. Это было поистине
удивительное зрелище.
Во время войны
при бомбежке особняк в Староконюшенном был разрушен, погибла мать Екатерины
Петровны, осталась под обломками и большая часть собрания живописи, правда,
кое-что удалось спасти, и в этом помог дядя Е.М.Макасеевой
Леонид Осипович Утесов.
Желание
собирать предметы старины возникло у супругов Лемкуль
не сразу. Ближайший друг семьи Елена Михайловна Макасеева,
у которой страсть к коллекционированию также «текла уже в крови», начала свое
собирательство после войны. Тогда многое распродавалось, можно было очень
дешево купить редкую вещь, хотя, конечно, даже в тяжелые и полуголодные
послевоенные времена подобные покупки стоили серьезных лишений в плане самого
элементарного быта. Однажды, увидев первые приобретения Елены Михайловны, отец
Екатерины Петровны Петр Андреевич Шумский сказал
дочери, что ей тоже нужно собирать какие-нибудь старинные вещи. Тогда-то и
началось это увлечение, продлившееся до конца жизни.
Основу
коллекции стекла Лемкулей положил небольшой бокал,
относящийся к середине XVIII
века, на основании ножки которого имеется надпись «ПРИДВОРНАЯ». Его супруги Лемкуль приобрели в антикварном магазине на Невском
проспекте во время поездки в Ленинград. «Осенью 1949 года мы месяц жили в
Ленинграде. И ежедневно ходили в Эрмитаж, на весь день, — вспоминала Екатерина
Петровна. — Эрмитаж был знаком с детства, но возможность безраздельно посвятить
ему столько времени представилась впервые. Все нас восхищало: и дворец, и
живопись, и скульптура, и прикладное искусство. В один прекрасный день, выйдя
из музея, мы зашли в антикварный магазин и увидели на полке бокал с вензелем
императрицы Елизаветы Петровны и с надписью на основании “ПРИДВОРНАЯ”. Вещь
точно такая же, как в витрине Эрмитажа, стояла в магазине — близкая и
доступная. Так началась наша коллекция».
Вернувшись со
своим «первенцем» в Москву, Лемкули начали активные
поиски антикварного стекла, продававшегося в то время в комиссионных магазинах.
В эти послевоенные годы в знаменитом магазине на Арбате они отыскали несколько
гравированных бесцветных штофов елизаветинского времени. Это собрание стало
основой их коллекции. По мере ее пополнения все больше разгоралось и желание
новых приобретений. Екатерина Петровна регулярно обходила комиссионные
магазины, в поисках предметов декоративно-прикладного искусства коллекционеры
нередко выезжали за пределы Москвы. Их «вояжи» распространялись не только на северную
столицу — Ленинград, но и в другие города России, в том числе Казань, Львов, за
редкими экземплярами ездили они на Карпаты, в Крым, в Прибалтику и Закавказье.
Как известно,
настоящее коллекционирование не ограничено узкой, «своей» темой, и, как истинные
ценители искусства, Лемкули старались не пропускать
вообще старинных редких вещей, соответствовавших их знаточеству и пониманию
вкуса как такового, — таким образом они покупали
многое из того, что не являлось предметом их собирательства. Эти «экземпляры»
служили своего рода обменным фондом — для них в доме Лемкулей
был отведен отдельный шкаф. Каждый обмен преследовал определенную цель, так как
коллекционеры великолепно знали, какую вещь они хотят взамен. Например, в
Казани была приобретена миниатюрная костяная копия памятника И.П.Мартоса Минину и Пожарскому. Благодаря обмену этой
вещицы у них появилась действительно штучная редкость — большая граненая бутыль
с вензелем Александра I. Предметом обмена не раз становились и личные украшения
Екатерины Петровны.
Таким образом,
происходило постепенное так называемое очищение коллекции. Эта кропотливая
работа привела к тому, что у Лемкулей не оказалось
ничего «случайного».
При этом ни
одно приобретение не далось им легко. Жили эти люди всегда достаточно скромно.
«Мы не были богаты, просто деньги тратили не на рестораны» — вспоминала
Екатерина Петровна. Но, и это естественно, за каждое новое, то есть всякий раз
лучшее, приобретение платилась все более высокая цена, что заставляло Лемкулей не раз в чем-то отказывать себе. Как вспоминают их
друзья, Екатерина Петровна всегда была одета очень просто, хотя на ней всегда
были прекрасные старинные украшения, а гостей в доме встречали столом, накрытым
антикварным серебром и стеклом.
Собирая стекло,
Лемкули редко обращали внимание на недостаточную
сохранность предмета. Вещь поврежденная, разбитая, представляла для них такой
же интерес, как и вполне целая, поэтому самыми любимыми произведениями в их
коллекции были именно те, которые удалось восстановить собственными руками. К
таким относится уникальный стакан конца XVII века на трех ножках-шарах с аллегорическим изображением
времен года. Вся его поверхность покрыта тончайшей динамичной
гравировкой, изображающей мужские и женские фигуры с соответствующими
атрибутами. Вещь эту Лемкули в свое время
действительно знали целой, долго пытались выменять ее у владельца, но это им,
увы, не удавалось. Но, как в поговорке, — не было бы счастья, да несчастье
помогло: стакан разбили, и только после этого его осколки перекочевали к Федору
Викторовичу, который вернул ему прежний облик. Его умелые руки тактично
помогали каждой бутыли, тарелке, кубку восстановить их целостность, а
безупречное художественное чутье подсказало удачный путь — реставрировать
функциональные части формы «руинированных» предметов
включениями из олова — старинного и благородного материала, — не нарушая при
этом собственную жизнь и историю памятника.
Критерии отбора
предметов в коллекцию были весьма высоки при том, что
многое определял индивидуальный вкус и пристрастия коллекционеров. Так, в сферу
их внимания не попадало стекло позднего XIX века несмотря на то, что оно часто встречалось на рынке, и
нередко можно было даже увидеть авторские работы, обладающие несомненной
художественной ценностью. Близкий друг коллекционеров Ф.С.Хитрук вспоминает, что у Лемкулей
была такая поговорка: «Все, что после Елизаветы, — нас не интересует», хотя эта
фраза, несомненно, была некоторым преувеличением, ведь когда коллекция уже
сформировалась, большую ее часть составили все-таки именно предметы второй
половины XVIII — начала
XIX века русского и
западноевропейского происхождения.
Впрочем,
причина такого отбора могла быть не только в пристрастиях коллекционеров, но и
в общем отношении к искусству второй половины XIX века, которое в то время
еще не было оценено по достоинству и практически являлось лишь предметом сугубо
научного исследования. В произведениях этого времени видели только проявление
эклектики, особенно в сфере декоративно-прикладного искусства, связанного уже с
промышленным производством.
Люди
общительные, супруги Лемкуль достаточно близко были
связаны с коллегами по собирательству. Художнику Я.Н.Манухину они благодарны за
многие интересные памятники, которые оказались в их владении. С И.М.Эзрахом, В.С.Кабушкиным их
объединяли чисто коллекционерские отношения. С семьей В.Е.Магидса
и «Землероями» (Т.Б.Александровой и И.Н.Поповым)
завязались самые теплые дружеские связи. Макар Макарович
Соколов, знавший «всю Москву», только Лемкулей
снабжал появлявшимся на антикварном рынке стеклом, а С.А.Ханукаев
добывал для них гутные сосуды из чуланов отдаленных
дагестанских селений.
Семья Лемкуль оказалась известной и в кругу музейных
специалистов. Крупнейший исследователь художественного стекла, всю жизнь
проработавший в Эрмитаже, Б.А.Шелковников хорошо знал
супругов и искренне восхищался их собранием: «Первый раз вижу, чтобы частные
коллекционеры так работали». Часто бывала в доме Лемкулей
и изучала их коллекцию знаменитый московский ученый, специалист по
художественному стеклу Н.А.Ашарина. Ссылки на
произведения из их коллекции можно встретить во многих ее публикациях.
Но Лемкули и сами занимались изучением предметов, так как
вместе с увлечением собирательством к ним пришел и
интерес к истории самого стекла. За многие годы ими была собрана прекрасная
специализированная библиотека (около 150 книг и журналов), в которую вошли
издания по истории декоративно-прикладного искусства разных стран и народов,
каталоги выставок и музейных собраний. Большую ценность составляют зарубежные,
великолепно иллюстрированные немецкие, чешские, английские, французские книги
по истории стекла, столь редкие и практически недоступные в России. Екатерина
Петровна внимательно изучала их и переводила нужные фрагменты текста. Во многих
книгах до сих пор сохранились ее пометки и закладки.
Каждая
поступившая в собрание вещь подробно исследовалась, составлялось ее описание,
включавшее размеры, атрибуцию, известные аналоги. Так Екатериной Петровной была
создана уникальная картотека, в которой особый интерес представляют карточки,
относящиеся к обмененным или проданным экземплярам (происхождение, дата обмена
или продажи также аккуратно фиксировалась в картотеке), ведь только они хранят
след их пребывания в руках Лемкулей.
Причем, как
истинные коллекционеры, Лемкули не замыкались только
на стекле. Были в их доме и живописные произведения — картины Сурикова, Кустодиева, Врубеля, редкая антикварная мебель, особенно
великолепный поставец и витрина середины XVIII века, в которых, собственно, и
размещалось стекло, на стенах висели гравюры петровского времени, керамические
блюда, стояли фарфоровые статуэтки.
Так,
многолетним кропотливым трудом супругами Лемкуль была
сформирована целая сокровищница антиквариата, основную часть которой составило
собрание западноевропейского и русского художественного стекла, выдерживающее,
как уже было замечено, конкуренцию со многими музейными коллекциями.
Решение
передать коллекцию в дар музею пришло не сразу. У супругов Лемкуль
не было детей, собрание художественного стекла было главным их детищем, смыслом
многих лет жизни. И как бы тяжело ни было расставаться с ним, Лемкули посчитали, что это будет продолжением существования
и их коллекции, и их жизни. В начале 1990-х годов Федор Викторович тяжело
заболел, нужны были деньги на лечение. Тогда Екатерина Петровна впервые пришла
к директору ГМИИ им. А.С.Пушкина Ирине Александровне Антоновой с предложением
купить несколько вещей. С этого времени началось активное сотрудничество Лемкулей с музеем, заинтересовавшимся их собранием.
Огромная роль в этом принадлежит сотруднице музея Варваре Замахаевой
(Дробот), ставшей со временем близким и любимым
человеком в доме Лемкулей.
Когда
выяснилось, что болезнь Федора Викторовича смертельна, супруги вместе приняли
нелегкое для них решение полностью передать коллекцию в дар музею, в недавно
образованный отдел личных собраний. День за днем, предмет за предметом
Екатерина Петровна знакомила Варвару Замахаеву с
собранием стекла. Постепенно, при участии экспертов из музея, коллекция была
полностью атрибутирована и оценена. К этому времени
Федор Викторович уже не вставал, но, лежа в своей комнате, внимательно следил
за происходящим, до конца желал быть в курсе событий. К сожалению, ему не
суждено было дожить до открытия экспозиции — 17 июня 1995 года Ф.В. Лемкуль умер. Похоронили его на Введенском кладбище, где
покоится весь род Лемкулей с середины XIX века.
Еще год
продолжалась активная работа по описанию коллекции, подготовке ее к
экспонированию. Во всем непосредственное, живое участие принимала Екатерина
Петровна. Для собрания Лемкулей в здании теперь уже
Музея личных коллекций был отведен отдельный зал, в семи витринах выставили
более 250 предметов художественного стекла. Экспозицию дополнили отдельные
предметы старины, некогда стоявшие в доме Лемкулей, а
на стенах были размещены графические работы Федора Викторовича (также
переданные в дар музею) и фотографии интерьеров квартиры коллекционеров. В
последний день перед открытием Екатерина Петровна ходила по залу, плакала — она
прощалась со столь дорогими ей вещами, составившими смысл ее жизни.
31 мая 1996
года состоялось торжественное открытие экспозиции художественного стекла из
коллекции Ф.В. и Е.П. Лемкуль в залах Музея личных
коллекций.
«Когда-то, еще
маленькой девчонкой, я жила недалеко, в Староконюшенном. Мы с подружкой бегали
в музей и мечтали уснуть в Египетском зале, а проснуться в Древнем Египте и
увидеть живых фараонов, египтян в лодках. И вот теперь тут, на Волхонке, моя
коллекция», — вспоминала на открытии Екатерина Петровна.
«В наше-то
время сей дар почти невероятен» — так
прокомментировала это событие директор музея Ирина Александровна Антонова.
Оценило его и государство, предоставив Екатерине Петровне президентскую пенсию.
Это был очень важный прецедент — выдающийся коллекционер оказался в одном ряду
с Улановой, Рихтером.
Спустя месяц,
ровно через год поле смерти Федора Викторовича, ушла из жизни и Екатерина
Петровна, завещав часть оставшихся у нее в доме вещей Государственной
Третьяковской галерее.
А экспозиция
художественного стекла из собрания Федора Викторовича и Екатерины Петровны Лемкуль является сегодня одним из любимых залов у
посетителей Музея личных коллекций. Представляя собой
ценнейшее собрание памятников мирового стеклоделия, она является также
памятником ее владельцам — людям, собравшим, бережно сохранившим и подарившим
нам свое «стеклянное царство».