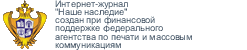Олег Неверов
Коллекция Д.П.Татищева
В истории европейского собирательства было несколько
поворотных моментов, имевших следствием внезапное разрушение прежних коллекций
и переходу их в руки новых владельцев. Таков был результат восстания во Флоренции
и изгнания Медичи в конце XV века,
тридцатилетней войны и английской революции XVII века, приведшей к распродаже собраний Карла I и его сторонников. Шедевры искусства, свято
хранившиеся в замках, виллах и дворцах, неожиданно попадают в новые руки,
начинается их полная авантюрных приключений миграция, порой приводившая к
гибели.
Таким же временем стала эпоха Французской революции и
наполеоновских войн: эмиграция и гибель аристократов, распродажи сокровищ
французских монастырей, изгнание прежних правителей и установление новых
монархов из семьи Бонапарта изменили лицо многих прославленных европейских
коллекций.
В России появляется новый тип коллекционера —
просвещенный дипломат-собиратель. Таков русский посол во Флоренции Н.Ф.Хитрово,
посол в Риме А.Я.Италинский, посол в Вене Я.И.Лобанов-Ростовский, лондонский посланник Р.Воронцов,
Д.М.Голицын и др. В эту эпоху совершается и поворот во вкусах собирателей: если
аристократические коллекционеры ценят прежде всего
живопись мастеров итальянского Ренессанса и маньеристов, а также полотна
художников Голландии и Фландрии XVII века, то
теперь новые собиратели «открывают» для себя живопись до Рафаэля и старых
нидерландцев. Кажется, первым это предпочтение обнаружил кардинал Феш, архиепископ Лионский (дядя Наполеона I). Только теперь Европа широко знакомится с живописью
Испании. В собраниях наполеоновского маршала Сульта и
генерала Себастиани преобладали именно полотна
испанских мастеров.
В этом контексте выросла коллекция Дмитрия Павловича
Татищева (1767–1845). Казалось бы, ничто не предвещало в нем в юности его
блестящей дипломатической карьеры, и вряд ли кто из близких мог представить себе Дмитрия Татищева в качестве
знатока и коллекционера. Как многие его сверстники, в четырнадцать лет он уже
имеет чин корнета конной гвардии. Однако уже в шестнадцать лет обнаруживаются
гуманитарные склонности юного Татищева. В числе восьми молодых людей, избранных
в 1783 году в помощь академикам и адъюнктам для создания «Российского Словаря»,
числится и Татищев. В те годы президентом Академии наук становится его тетка,
известная Е.Р.Дашкова. Так что неудивительно, что в 1795 году Татищев уже
действительный член Российской Академии.
Во времена русско-турецкой войны он отправляется в
армию волонтером. В рекомендательном письме А.В.Суворова (1791) он получает
лестную характеристику как «премилый и предостойный молодец, привязанный к
службе чрезвычайно». Возможно, не без помощи могущественных родственников
братьев Воронцовых — канцлера Александра Романовича и полномочного посла в Англии
Семена Романовича — юноша оказывается во время мирных переговоров в Яссах при
русском уполномоченном А.А.Безбородко, а чуть позже — послан в Константинополь
в качестве поверенного в делах. Так началась его дипломатическая карьера,
продолжавшаяся всю жизнь. Даже «шалости», за которые другому могло и не
поздоровиться, юный Татищев улаживает, проявляя дипломатический талант. Он
увозит свою первую жену от живого мужа — обер-бергмейстера
Колтовского. Предупреждая законную жалобу
разгневанного супруга, он обращается с покаянным письмом к могущественному
фавориту П.А.Зубову (1796) и добивается прощения.
Дипломатическая служба не позволяет Татищеву надолго
задерживаться в родных краях: в 1802–1808 годах он полномочный посол в Неаполе,
с 1812 года — в Мадриде, с 1821 года — в Гааге, с 1822 по 1841 год — в Вене. В
1812 году он женится на красавице польке Юлии Конопка.
Это опять была разведенная жена офицера Безобразова.
«Гишпанскую красавицу»
воспел П.А.Вяземский. Свои письма к «прекрасной Юлии» он неизменно заканчивал
галантным польским выражением: «падам до ног». Вот
мадригал поэта, обращенный к красавице-посольше:
Когда
молва мне Вас изображала,
Я думал, что она не бережет похвал,
Но Вас я увидал и опытом познал,
Что многого молва не досказала.
Всю жизнь Татищев опутан долгами. В юные годы их
уплату берут на себя то его тетка княгиня Дашкова, то дядья-братья Воронцовы.
Несколько раз его патроны — цари Александр I и Николай I- должны
были оплачивать его долги. Основная причина их — траты дипломата-коллекционера.
В Петербурге его доверенным лицом был племянник П.А.Урусов. По просьбе Татищева
он нередко закладывает и перезакладывает его многочисленные, усыпанные
бриллиантами, ордена,.
В своем «Завещании» (1843) сам Татищев рассказывает
кратко историю своего собрания: «Во время продолжительного слишком 36-летнего
пребывания моего за границею... я находился в таких местах, где разные
политические события имели сильное влияние на фортуну многих знатных домов, как
то: в Неаполе, Сицилии и других частях Италии, равномерно в Испании и в самом Мадрите (sic!)... Вторжение французов имело последствием
ниспровержение разных знатных и богатых домов, вынужденных обстоятельствами
распродать свои имущества, так что многие вещи, в особенности редкие картины,
отдаваемы были за бесценок, тогда как в другое время они бы не были проданы.
Потом в течение 20-летней дипломатической моей службы в Вене я имел много
случаев приобресть разные картины и другие художественные старинные и редкие вещи с большим
удобством за неимением соперничества в приобретателях и любителях»1.
Завещание предваряет собственноручно написанный подробный каталог коллекции.
Татищев добавляет: «Я дозволяю себе сделать это верноподданническое приношение,
потому что вещи эти уже сделались известными в кругу европейских художников и
покровителей изящных искусств, единодушно отзывающихся о достоинстве их с
большою похвалою»2.
Мы имеем свидетельства о том, с каким блеском был
меблирован дворец князя Лихтенштейна, венская резиденция посла. Литератор
Н.Греч, посетивший Вену в 1837 году, писал: «Д.П.Татищев принимал меня с
благосклонностью и радушием истинного русского вельможи... он живет в
великолепном и просторном доме князя Лихтенштейна. Комнаты убраны богато и со
вкусом. Особенно блистательна рыцарская зала... в углах ее стоят во всеоружии
статуи рыцарей, конные и пешие. Но всего замечательнее
у него коллекция картин первых мастеров»3.
Барон М.А.Корф сообщает о резиденции русского посла в
Вене: «Среди тамошней блестящей аристократии дом его долго считался первым по
богатству, роскоши и вкусу»4. В конце коллега не преминул добавить
«ложку дегтя» в адрес Татищева: «Он прожил огромные состояния и первой и второй
своих жен, императоры Александр и Николай не раз уплачивали значительные его
долги»5.
После смерти Татищева долги его вновь составили 30
тысяч! Но он озаботился построить два дома в Петербурге и перевезти сюда свои
коллекции. Тот же Корф сообщает: «По переезде в С.Петербург
он не жил открыто, но имел тоже великолепно убранный дом (на Фонтанке)... а
потом выстроил еще другое здание (на Караванной ул.) для помещения в нем своих
богатых и разнообразных коллекций, целого музея, собранного им в чужих краях»6.
Дар дипломата пришелся как нельзя более кстати:
император создавал Новый Эрмитаж. Но коллекция умершего Татищева была так велика,
что было решено ее разделить: части попали в Царскосельский арсенал, части — в Петергофские дворцы и павильоны. Из 185 живописных полотен
60 были отосланы в Москву, где вместе с мебелью украсило Большой Кремлевский
дворец7.
Обер-гофмейстер В.Д.Олсуфьев уже 14 февраля 1846 года докладывает,
что комиссия в составе Ф.И.Лабенского и Ф.А.Жиля
«вследствие Высочайшего повеления... завещанные ... вещи полагает поместить в так называемой французской галлерее
Императорского Эрмитажа»8. То есть в зале №254 (ныне выставка картин
Рембрандта и его школы) были временно размещены коллекции
Татищева. Но скоро собрание подверглось той же систематизации, что и картины
екатерининского Эрмитажа. В залах николаевского Нового Эрмитажа мы можем видеть
их размещенными по школам.
Так, в акварели Э.Гау
«Кабинет итальянских школ» (1853) два полотна из собрания Татищева
зафиксированы на стенах: это «Мадонна с младенцем и Св.Екатериной»
школы Франческо Франча и
копия картины Рафаэля «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» (с 1924 года
— в ГМИИ им.А.С.Пушкина, с 1956 года — в
Республиканском объединённом музее Душанбе). В акварели Л.Премацци
«Кабинет итальянских школ» (1859) зафиксировано полотно Тосини
«Святое семейство с Иоанном Крестителем». Из-за фальшивой подписи полотно долго
приписывалось Пармиджанино.
Помимо кабинетов итальянских школ, располагавшихся в
Новом Эрмитаже параллельно громадным залам-просветам (залы №№ 231–236), в
первом этаже николаевского музея была отведена живописи часть библиотеки:
Галерея изящных искусств (ныне зал под Лоджиями Рафаэля, библиотека и кабинеты
хранителей Отдела античного мира). Здесь были размещены
сочинения «по части изящных искусств». На стенах галереи располагались
111 картин итальянских школ. Среди них — четыре полотна из собрания Татищева:
№38. Пармиджанино «Отдохновение святого семейства»;
№52. Аннибале Каррачи
«Святой Варфаломей»; №63. Копия с Паоло
Веронезе «Спаситель у Симона Фарисея»; №66. Копия с Тициана «Святое семейство»9.
Пожалуй, не менее интересны, нежели итальянские
полотна, в коллекции были произведения нидерландских мастеров. Увы, наиболее
редкий памятник — две створки триптиха Яна ван Эйка «Голгофа» и «Страшный суд» с 1933 года хранятся в
Нью-Йорке, в музее Метрополитен. Третья створка была похищена уже у Татищева в
Испании («Поклонение волхвов»).
Настоящим редким шедевром остается диптих Робера Кампена «Троица» и
«Мадонна с младенцем у камина» (ГЭ). Из современников Татищева разве что
упомянутый кардинал Феш или братья Буассере умели оценить странную «готическую» прелесть ранней
нидерландской и немецкой живописи. Вкус большинства собирателей этой эпохи
оставался академическим. То, что работы Яна ван Эйка и Робера Кампена
не были случайными приобретениями дипломата-коллекционера, показывают и прочие
образцы старонидерландской живописи в его собрании: «Мадонна с младенцем» Яна Провоста (ГЭ), «Обручение святой Екатерины» и «Св.Иероним» Адриана
Изенбрандта (ГЭ)10. Два полотна, прежде
хранившиеся в Большом Кремлевском дворце, ныне находятся в ГМИИ.
Испанская живопись, с которой Европа только начинала
знакомиться в эту эпоху, была хорошо представлена в коллекции Татищева. Луис де
Моралес «Мадонна с младенцем» (ГЭ), Хуан де Пареха «Командор ордена Сант-Яго»
(ГЭ), Хуан дель Кастильо
«Ангел-хранитель» (ГЭ) и два полотна неизвестных мастеров XVII века были украшением испанского зала Нового Эрмитажа.
Копия «Святого Петра» Мурильо поступила в Академию
художеств.
В собрании Татищева были представлены картины в
технике мозаики XVI — XVIII веков. Одна из них, флорентийской работы, воспроизводит
сцену «Благовещение» (ГЭ), другие — итальянские пейзажи (ГЭ); прочие являют
собой орнаментированные мозаикой столешницы (ГЭ).
В живописном собрании не было работ современных
художников. Исключение составляли полотно Р.Менгса «Святой
Иоанн, проповедующий в пустыне» и два портрета: Петра I работы Г.Риго и Екатерины II кисти Ж.-Б.Лампи.
В отделении древностей Нового Эрмитажа можно отметить
части скульптурной коллекции Татищева — бюст египетской богини Сохмет («Пашт») в кабинете скульптуры11,
в галерее древней скульптуры — герму Пана (инв.№ А 197). Самым любопытным было
собрание гемм — дактилиотека Татищева. Это был своего
рода «музей в музее» — портативный ящик эбенового дерева, сработанный
в 1837 году мастером И.Фолькманом в Петербурге. Он
заключал 160 инталий и камей от древности до начала XIX века. Такого рода ансамбли давно уже не существуют в своем первоначальном виде12. Итальянские бронзы и
майолика, изделия из кости, серебра и цветных камней, лиможские
эмали и табакерки — все это в свое время влилось в коллекции Эрмитажа
и дает представление о богатстве и разнообразии того «музея», который был
создан Д.П.Татищевым.
1 Архив
ГЭ. Оп.II. 1846. Д.№81. Л.2.
2 Там же.
Л.4.
3 Греч
Н. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. Ч.III. СПб., 1839. С.163 и сл.
4 Записки
барона М.А.Корфа // Русская старина. 1899. №12. С.513.
5 Там же.
С.519.
6 Там же.
С.518.
7 РГИА. Ф.
472. Оп.17/6/938. Ед.хр.20. Л.1-172. О назначении комиссии по распределению его
коллекции старинных вещей, согласно завещанию, в Эрмитаж, Царское Село,
Кремлевский дворец и Петергоф.
8 РГИА.
Ф.101/938. Д.№20а. Л.7.
9 Жиль
Ф. Музей Императорского Эрмитажа.
СПб. 1861. С.151и сл..
10 Неверов
О.Я. Дипломат-коллекционер // Старые годы. 1999. №2.
11 Жиль
Ф. Ук. соч.С.354, №81999,
с.16, и сл.
12 Неверов
О.Я. Дактилиотека дипломата Татищева // Советский
музей. 1987. №2, март. С.65, и сл.