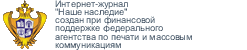Галерея журнала "Наше наследие"
Галерея
журнала «Наше наследие»
Валентин
Лебедев
Делаю
не вещь, а смысл вещи…
В
блестящей плеяде московских
скульпторов-шестидесятников Нине
Ивановне Жилинской принадлежит особое
место. В отличие от большинства своих
коллег, развивавших традиции неоклассики,
опиравшихся в первую очередь на опыт
Майоля и Матвеева, Жилинская поставила
под сомнение незыблемость принципа
антропоморфности в скульптуре. В России
она первой стала создавать скульптурные
пейзажи и натюрморты. Но главное —
архитектоника человеческих фигур.
Изображая людей, художница смело
прибегает к деформации и нередко как
бы стирает грань между человеческой
телесностью, природной стихией и
геометрикой неорганических предметных
форм; в результате возникает образ
целостного одухотворенного универсума.
Можно сказать без всякого преувеличения,
что формотворчество Жилинской естественно
вписалось в круг пластических исканий
«классического» авангарда.
В
искусстве Жилинской ярко воплотились
принципы так называемого необарокко,
пришедшего на смену «суровому стилю»
в московской скульптуре. Диалектика
противостояния пространства и массы,
эффект «прорастания» форм в окружающую
среду, эстетическая значимость пустот,
отверстий, внутрикомпозиционных
интервалов, наконец, высокая ритмическая
напряженность всей пластической ткани
произведения — эти характерные
особенности художественного языка
наполняют работы Жилинской резкой
динамикой, драматическим пафосом, духом
борьбы и страдания.
Порой
кажется, что изваяния Жилинской
самодостаточны, жизнеспособны вне
контекста, что их барочная экспрессия
безудержна. На самом деле это не так.
Как образно говорит в своих записках
сама художница о собственном методе
работы, «спасаю себя, создаю “воздушную”,
ложную архитектуру, среду, в которой
делаю не вещь, а смысл вещи».
Создание
ложной архитектуры здесь не что иное,
как установление мысленных пределов
для развития композиции в пространстве.
И действительно, полнообъемная скульптура
Жилинской тяготеет к конфигурации
рельефа. Даже в такой многосоставной
группе, как «Взрослые и дети», все фигуры
размещаются меж двух параллельных
плоскостей, сравнительно близко отстоящих
друг от друга. Спрессованность
пространства, подчиненность форм ритмике
планов не только усиливают ощущение
противоборства сил, наполняющих
скульптуру изнутри и вторгающихся в
нее извне, но и вносят необходимое
дисциплинирующее начало, обнажают
архитектоническую логику общего
построения. Жилинская как бы реализует
на практике уроки В.А.Фаворского,
говорившего, что изображение должно
быть плоскостным, но не иллюзорным и не
плоским и что «скульптура вообще должна
подчеркивать плоскость, которая с ней
сочетается». Здесь сказалась, впрочем,
и парадоксальная, но незыблемая
закономерность барочной стилистики,
остроумно охарактеризованная Г.Вельфлином:
«Прелесть преодоления плоскости можно
ощутить лишь при условии, что известного
рода плоскость налицо».
Высокий
драматизм, присущий скульптуре, а также
и рисункам Жилинской, выражает дух
времени. Крушение социальных иллюзий,
связанных с хрущевской «оттепелью»,
устойчивая тенденция к ограничению
свободы личности и к регламентации
общественной жизни со стороны государства
в период застоя, безусловно, наложили
свою печать на зрелое творчество
художницы. Однако настроения тревоги,
неудовлетворенности, дисгармонии с
реальностью бытия, напряжение существования
личности, как бы устремленной «к иному»,
т.е. все то, что можно либо прямо уловить
в психологии персонажей художницы, либо
ощутить в беспокойном пластике ее
одухотворенных композиций, имеет и
более широкий общечеловеческий и
общеэпохальный смысл. В произведениях
Жилинской середины 60-х — середины 80-х
годов проступают черты экзистенциалистского
мироотношения, во многом свойственного
авангарду послевоенной волны.
В
1985 году Жилинскую поразил инсульт,
навсегда отнявший у нее возможность
действовать правой рукой и говорить.
Единственной возможностью не потерять
контакт с миром и сохранить себя как
творческую личность стало для нее
рисование. Научившись работать левой
рукой, Жилинская в последние десять лет
жизни занималась исключительно рисунком
и живописью.
Характер
творчества художника несколько изменился.
Дух экзистенциальной устремленности
к потустороннему, не исчезая вовсе, все
же уходит на второй план. Зато вспыхивает
понятная для человека, ставшего
ограниченным в своих физических
возможностях, ностальгия по повседневному
потоку жизни, обостренное восприятие
обыденного, всех его деталей. Образный
мир поздней Жилинской во многом
перекликается с мировидением наивных
художников, с их умением почувствовать
вселенскую значимость простых вещей и
ситуаций, сочно акцентировать характерное,
сохраняя при этом весьма условную
стилистику композиции в целом.
Воля
к протесту, всегда отличавшая Жилинскую,
в последние годы вылилась в форму борьбы
за жизнь. Но ее искусство не утратило
страстности, существенности интонаций
и, как и прежние ее работы, и сегодня
влечет к себе зрителя, склонного к
глубине размышлений и эстетических
переживаний.