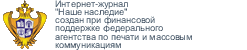Ирина Стерлигова
Татьяна Глебова и костромская
коллекция ее произведений
В Костроме — еще одном волжском городе, хранится важная
часть художественного наследия Татьяны Николаевны Глебовой. Это двенадцать
живописных и графических произведений, большинство из которых относятся к
началу 1930-х годов1.
Творчество Глебовой — живописца,
театрального художника, графика, иллюстратора книг Д.Хармса, Н.Заболоцкого и
А.Введенского — приобретает ныне все большую известность, ее имя — среди
наиболее значительных ленинградских художников XX
столетия2. Но в конце 1980-х, когда работы Глебовой поступили в
собрание Костромского художественного музея, за пределами Ленинграда о ней
почти не знали. Ее деятельность проходила вдали от официальных путей советского
изобразительного искусства, а произведения, как и работы ее мужа,
единомышленника и собеседника Владимира Васильевича Стерлигова3, на
официальных выставках практически не представлялись. Татьяна Николаевна была
ученицей Павла Николаевича Филонова, Стерлигов — Казимира Севериновича
Малевича. Оба восприняли у своих учителей главное: отношение к искусству как
постоянной внутренней работе, бескорыстие и принципиальность. Было еще одно
обстоятельство, придающее творчеству Глебовой и Стерлигова особую значимость,
но делающее его при советской власти «неудобным». О нем лучше всего сказать
словами самой Татьяны Николаевны, написанными о Марии Юдиной4, с
которой она дружила с юных лет, но в полной мере относящимися и к ней самой:
«Мария Вениаминовна проникла в музыку не только своей музыкальностью, но и
духовным опытом, — она была верующая. Она могла позволить себе большую свободу
интерпретации, так как обладала необычайной глубиной музыкальной мысли и умела
сдвигать широкие пласты звучания»5. Произведения этой своеобразной
художницы, сохранявшей верность идеям русского авангарда и постоянно работавшей
над художественным языком, захотели «добыть» для Костромского музея его молодые
сотрудники.
Все началось с того, что костромичка В.П.Прямикова6
в 1987 году познакомилась с ведущим в ту пору исследователем русского
авангарда, сотрудником Русского музея Е.Ф.Ковтуном (1928–1996)7.
Речь зашла о художниках, чьи работы могли бы пополнить музейную коллекцию
живописи ХХ века. Евгений Федорович (входивший в круг Стерлигова и Глебовой)
составил список, в котором было и имя Глебовой. Татьяны Николаевны к этому
времени уже не было в живых, и наследие сохраняла ее сестра Людмила Николаевна.
В ноябре того же года к ней в Петергоф поехала сотрудница музея Т.М.Касторская.
Людмила Николаевна стала показывать ей многочисленные папки, в них были и
рисунки, и картины без подрамников, некоторые в плохом состоянии. В комнате
было довольно темно, но Касторскую сразу поразили звучностью красок «Петух» и
южные пейзажи. Захотелось, чтобы творчество Т.Н.Глебовой было представлено в
коллекции разными жанрами, поэтому были отобраны пейзажи, натюрморт и три
портрета. К сожалению, Людмила Николаевна знала имя лишь одного персонажа —
И.А.Браудо, который когда-то учил ее игре на органе. Она с увлечением
рассказывала о сестре, о том, как та брала ее еще маленькой девочкой в
мастерскую Филонова, о том, что сама в юности увлекалась живописью. Она была
тронута интересом к творчеству Татьяны Николаевны, в то время почти
неизвестному. Так 9 холстов Глебовой, датируемых 1930-ми годами и 3 работы
маслом на картоне 1950-х годов, из серии, связанной с Гатчиной, были закуплены
в коллекцию Костромского художественного музея.
И Людмила Николаевна, и сама Татьяна Николаевна были людьми
необычными, можно сказать, драгоценными осколками русской дворянской культуры.
Они дотянули до нас не только память о прошлой жизни, но и саму эту жизнь с ее
высокой простотой и милосердием, самим существованием своим освещали невеселую
действительность позднего социализма. В их дом я попала в 1976 году, выйдя
замуж за А.Б.Стерлигова, племянника В.В. Стерлигова, которого тогда уже не было
в живых. Мудрость и одновременно непосредственность, благородная простота,
глубокая вера и открытость ко всему новому, великодушие и взыскательность
Глебовых стали для меня большим даром судьбы. При всей духовно-нравственной
дисциплине, внутренней строгости Татьяна Николаевна была человеком светлым и
артистичным.
Татьяна Глебова была средней из трех дочерей промышленника,
общественного деятеля, публициста и философа Николая Николаевича Глебова и
певицы Марии Сергеевны Барыковой, правнучки графа Федора Толстого,
вице-президента Академии художеств. Дочери были щедро одарены, серьезно изучали
музыку, писали стихи и прозу, занимались живописью и скульптурой. Но лишь одна
из них стала большим художником. Восприимчивость к духовным поискам, высокая
требовательность к себе и твердость помогли Татьяне Глебовой до конца жизни
сохранить свой дар.
С юности Глебову окружали люди творчества. Это были не
только ученики П. Филонова, соратники по Мастерской аналитического искусства,
созданной в 1930 году (особенно она дружила с Алисой Ивановной Порет8).
Среди ее друзей были выдающиеся музыканты: Исай Александрович Браудо и уже
упомянутая нами Мария Вениаминовна Юдина, философ, теолог и музыковед Яков
Семенович Друскин9, поэты Даниил Иванович Хармс, Александр Иванович
Введенский, Константин Константинович Вагинов, Николай Макарович Олейников,
входившие в созданное в 1926 году Объединение реального искусства (ОБЭРИУ),
художники Владимир Владимирович Дмитриев, Вера Михайловна Ермолаева, а после
войны — вся одаренная семья Трауготов ( художники Георгий Николаевич и его жена
Вера Павловна Янова, их дети Валерий, Александр и соученик Александра скульптор
Михаил Войцеховский), входившая в «ближний круг» Друскина. Всех этих людей
объединяло стремление постичь смысл бытия, друзья-музыканты были настоящими
философами, а философы — глубоко погружены в поэзию и живопись. Друг через
друга они открывали для себя новые слова, мысли, пространства, звучания. Юдина
писала: «Узнала я стихи Хармса посредством двух замечательных художниц: Татьяны
Николаевны Глебовой (супруги тоже замечательного художника Владимира
Васильевича Стерлигова10) и Алисы Ивановны Порет <...> Был еще
около них всех и Александр Введенский; поэзия Введенского как-то меня не
затронула. Хармс запомнился на всю жизнь»11.
С поэтами разгромленного в 1930 году ОБЭРИУ Татьяна
Николаевна и дружила, и сотрудничала — иллюстрировала их стихи для детей. Я.С.
Друскин, входивший в философское крыло этого объединения, вспоминал: «Мечтали
мы и о совместном журнале, особенно Хармс. В одной из его записных книжек
упоминается о журнале, к участию в котором предполагалось привлечь и некоторых
других лиц, не входивших в нашу группу: прежде всего двух талантливых, может
быть, наиболее талантливых у нас художников — Татьяну Николаевну Глебову,
ученицу Филонова, в своем творчестве далеко ушедшую от своего учителя, и ее
мужа, Владимира Васильевича Стерлигова, ученика Малевича. С ними я сблизился
позднее, в пятидесятые годы»12. В дневниках Хармса за ноябрь и
декабрь 1932 года часто упоминается Глебова, 30 ноября 1932 года он
записывает: «Некоторое время я был наедине с Татьяной Николаевной,
смотрел ее картины»; новый 1933 год они встретили вместе13. Неоднократно
упоминается Т.Н.Глебова и в письмах А.И.Введенского к Хармсу. Александр
Иванович, отбывавший свою высылку из Ленинграда в Борисоглебске, 6 декабря 1932
года, в свой день рождения, писал Хармсу, продолжая постоянную «обэриутскую»
игру: «Поклонись от меня Т.Н.Глебовой и Александру Иван. Порет [то есть, Алисе
Ивановне], и скажи им, что я про них что-то узнал»14. Следует иметь
в виду, что все они были еще молоды. Забавен рассказ Татьяны Николаевны о
молодой Юдиной: «Одевалась Мария Вениаминовна всегда в черные одежды, а на
улице носила черный плащ, такой же плащ был и у меня. Раз, в перерыве одного
концерта, мы с ней стояли на лестнице в Консерватории и — вот удивительно —
курили, а мимо проходил И.В.Ершов15. Он нас увидел, развел рукам и
сказал: «Ну, уж и монахи закурили»16. Глебова увековечена в шедевре
портретного искусства, принадлежащем перу Николая Олейникова (1931):
«Татьяне Николаевне Глебовой»
Глебова Татьяна Николаевна!
Вы
Не выходите у нас из головы.
Ваша маленькая ручка и Ваш глаз
На различные поступки побуждают нас.
Вы моя действительная статская советница,
Попечительница Харьковского округа!
Пусть протянется от Вас ко мне
взаимоотношений лестница,
Обсушите Вы меня, влюбленного и мокрого.
Вы, по-моему, такая интересная,
Как настурция небезызвестная!17
И я думаю, что согласятся даже птицы
Целовать твои различные частицы.
Обо мне уж нечего и говорить —
Я готов частицы эти с чаем пить…
Для кого Вы — дамочка, для меня — завод,
Потому что обаяния от Вас дымок идет.
С Д.И.Хармсом Глебову связывала и любовь к музыке, походы в
концерты. В записях Хармса об этих событиях дневниковый non fiction постепенно перерастает в его
квазиавтобиографическую прозу «о явлениях и существованиях». Вот записи ноября 1932года: «<…> Звонила Татьяна Николаевна, и я
сговорился с ней, что буду в Филармонии в 8 1/2 часов. Я разгладил свой
поношенный костюмчик, надел стоячий крахмальный воротничок и вообще оделся как
мог лучше. Хорошо не получилось, но все же до некоторой степени прилично.
Сапоги, правда, чересчур плохи, да к тому же и шнурки рваные и связанные
узелочками. Одним словом, оделся как мог и пошел в Филармонию.
В вестибюле встретил Порет с
Кондратьевым18 и Глебову. <…>
Надо купить билет не только себе, но и Глебовой. Самые дешевые оказались за
восемь рублей, и я их купил.
Я очень застенчив. И благодаря
плохому костюму, и все-таки непривычке бывать в обществе, я чувствовал себя
очень стесненным. Уж не знаю, как я выглядел со стороны. Во всяком случае,
старался держаться как можно лучше. Мы ходили по фойе и рассматривали фотографии.
Я старался говорить самые простые и легкие мысли, самым простым тоном, чтобы не
казалось, что я острю. Но мысли получались либо скучные, либо просто глупые и
даже, мне казалось, неуместные и, порой, грубоватые. Как я ни старался, но
некоторые вещи я произносил с чересчур многозначительным лицом. Я был собой
недоволен. А в зеркале я увидел, как под затылком оттопырился у меня пиджак. Я
был рад поскорее сесть на места. Я сидел рядом с Глебовой, а Порет с
Кондратьевым сидели в другом месте. Я хотел сесть в светскую, непринужденную
позу, но, по-моему, из этого тоже ничего не вышло». «….От Маршака пошел в
Филармонию. В вестибюле встретил очень много знакомых: и Порет, и Глебову, и
Кондратьева. <…> Билетов достать не мог. У Глебовой тоже нет билета. У
меня только три рубля. Мы решили купить входные билеты. У Глебовой 4 рубля,
больше ни у кого денег нет. Я встал в очередь к кассе. Входные билеты все
распроданы, и самые дешевые за 5 р. 75 к. Но пока мы думали, пропали и эти. Я
стою у окошечка и пропускаю за 6 р. 50 к. И больше денег не остается. В это
время приходит Frau René19.
А народ толпится и толкается у кассы. Frau Rene' одалживает мне деньги. Она
протягивает бумажку, это все, что у нее есть. Мне кажется, что это 20 рублей. А
тут еще какой-то военный просит меня купить ему билет и дает мне деньги. Я не
считаю, сколько всего денег, мне кажется, что там 26 руб. 50 коп., все это
протягиваю в кассу и прошу 3 билета по 6 руб. 50 коп. Деньги военного кассирша
мне возвращает и говорит, что это лишние, и дает мне три билета по 6 р. 50 к. Я
получаю сдачи рубль, беру билеты и рассчитываюсь раньше всего с военным. Я чуть
не обсчитал его. Он, оказывается, дал мне не 6 рублей, а 5+3, т. е. 8. Наконец
мы с ним в расчете, и я несу сдачу Frau Rene'. Я протягиваю ей 7 рублей. Она
говорит: «Как, это вся сдача?» «Да», — говорю я. «Что вы, там было 50 рублей»,
— говорит она. Я иду к кассе и кричу кассирше, что вышло недоразумение. А
вокруг толкается народ, тянется к окошку и мешает переговорить мне с кассиршей.
Кассирша говорит, что она сдала сдачу с 50 рублей, и кто-то ее взял. Я для
чего-то протягиваю ей оставшиеся 7 рублей, она мне возвращает только 5, и я еще
теряю 2 рубля. В общем, завтра я должен отдать Frau Rene' 50 рублей, сейчас же
даю ей только пять. Больше у меня ничего нет. На концерте мы сидели во второй
боковой ложе вчетвером: Кондратьев, Глебова, Frau Rene' и я. <…>»
С началом 1930-х стремительно наступила иная эпоха, усилилась травля левых художников и поэтов, уже в 1931 году
Хармс, Введенский и художница Елена Сафонова, с которой дружили и Глебова, и
Стерлигов, были арестованы и на время высланы из Ленинграда.
Несмотря ни на что в эти годы
Глебова напряженно работала, иллюстрировала книги и стихи для издательства
Детгиз и детских журналов «Чиж» и «Еж», вместе с другими учениками Филонова под
руководством учителя трудилась над иллюстрациями к «Калевале», изданной
издательством «Academia» в 1933 году. О связанных с этим изданием мытарствах,
запретах и травле писал в своих дневниках П.А.Филонов.
Менялся и художественный язык: Глебова
постепенно освободилась от филоновского влияния — сама она связывала это с
работой в Детгизе, — но по-прежнему руководствовалась одним из принципов своего
учителя: «Каждый мастер может работать в планах: реалистическом со ставкой на
точь-в-точь сделанного примитива, абстрактном, т.е. изображенной формой и в
смешанном».
Для творчества Глебовой всегда был характерен острый интерес
к личности, портрету. Уже в послевоенные годы В.В.Стерлигов говорил Татьяне Николаевне: «Ты от Бога наблюдатель, тебе дана
талантливость схватывать самое главное. Я пройду мимо ничего не замечу, а ты
схватываешь суть». С дорогими для Глебовой людьми связаны и ее
произведения, поступившие в Костромской художественный музей. Наибольший
интерес представляют портреты.
В начале 1930-х годов портрет
становится для нее одним из главных жанров. Модели Глебовой — только внутренне
близкие ей люди, почти всегда люди творческие. В их портретировании Глебова
видела особую миссию художника. Неоднократно она рисовала и писала Юдину, в
1934 году через общих друзей попросила позировать ей А.А.Ахматову и создала два
ее портрета, в собрании ГРМ есть замечательный «Портрет писателя». Это
«анонимное» название связано с эпохой: с 1934 по 1941 год были неоднократно
репрессированы и погибли многие из окружения художницы. Написала Татьяна
Николаевна и портрет Даниила Хармса, исчезнувший во время блокады20.
Среди трех костромских портретов Глебовой — еще один
«Портрет писателя». Есть основание утверждать, что это единственный живописный
портрет поэта и прозаика Константина Константиновича Вагинова, входившего в
несколько литературных объединений, в том числе и в ОБЭРИУ. Вагинова хороша знала и Юдина, он принимал участие в работе
"кантовского семинара", с 1925 по 1928 год собиравшегося в ее доме. Портрет
был написан в 1930 году где-то на юге: в последние годы жизни тяжело больной
Вагинов много времени проводил в различных санаториях, он умер от туберкулеза в
апреле 1934 года. Как известно, прототипами для героев прозаических
произведений Вагинова были реальные лица, возможно, среди них была и Татьяна
Николаева Глебова.
Наибольшую известность из костромской коллекции Глебовой
приобрел единственный подписной портрет — органиста И.А.Браудо. Уже в феврале
1988 года он был представлен в постоянной экспозиции Костромского музея21.
Исай Александрович Браудо (1896–1970) был героем и других
полотен Т.Н.Глебовой начала 1930-х годов: большого «Группового портрета» и
«Портрета Браудо» (ГМИСП)22, «Восхождения на Исакий» (Художественный
музей г. Архангельска), «Автопортрета с И.А.Браудо» (ГРМ), «Дома в разрезе»
(Ярославский художественный музей), но лишь его костромской портрет имеет
точную дату, поставленную карандашем на обороте холста: «1930». Браудо был не
только выдающимся исполнителем, но и ученым, он занимался исследованием
старинной музыки, которой была увлечена и Глебова. «…Всю жизнь влюблена в
музыку. Ее ищу везде. Когда она является мне на плоскости, я бываю счастлива.
Но если она звучит, а я не слышу — мне горе. Сколько я ради нее претерпевала в
жизни! В какие бездны падала, не понимая своего места в отношении к ней! Когда
я нашла ее в живописи, это меня спасло. А теперь, перед концом жизни, она
появилась в Церкви» — так написала художница через несколько десятилетий после
создания портрета, в конце своего пути. Начало тридцатых было еще временем
«претерпевания», когда, по словам Юдиной, «Татьяна Николаевна Глебова…играла на
скрипке, музыку знала и понимала, обожала орган и дружила с Исаем
Александровичем Браудо»23. Дружба эта ни для кого не была тайной. Хармс в своем дневнике 27 ноября 1932 года записал: «После
концерта подошел к нам Исаак [Исай] Александрович Браудо. На этом основании я
не поехал провожать Глебову».
На всех глебовских портретах Браудо изображен в характерной
белой сорочке без галстука, в пиджаке или пальто старинного покроя, иногда в
странной широкополой шляпе. Всюду он погружен в себя, а на костромском портрете
— полон напряженных раздумий. На «Групповом портрете» Браудо представлен в
центре круга друзей художницы, одновременно он повернут к Глебовой, касающейся
кистью его лба, и обращен вовне. Их роман был долгим, для Татьяны Николаевны
мучительным и даже трагическим. Только в конце 1942 года, пережив ужасы
блокады, в эвакуации, она нашла свою долю: стала женой В.В. Стерлигова, потерявшего
в мясорубке сталинских репрессий свою первую жену.
Третий костромской портрет запечатлел привлекательную
молодую даму, сидящую в ампирном кресле, за ее спиной — изысканный каминный
экран с вышитым архитектурным пейзажем, за ним — большая чугунная печь, на
стене — акварель в старинной рамке. Возможно, это жена театрального художника
В.В.Дмитриева Вета, изображенная Глебовой в левом верхнем углу «Группового
портрета». В 1932 году Глебова вместе с
В.В.Дмитриевым оформляла постановку оперы Р.Вагнера «Нюренбергские
мейстерзингеры» в Малом оперном театре, возможно, тогда же был создан портрет.
Несмотря на немыслимые условия жизни в блокаду, Т.Н.Глебовой
удалось сохранить большую часть своих произведений, она обращалась к ним и в
послевоенные годы, некоторые портреты 1930-х годов (Филонова) были повторены ею
в 1970-е годы. Ей дорога была и память об ушедших друзьях: групповой портрет,
хранящийся ныне в Музее Санкт-Петербурга, в поледние годы жизнеи она назыввала
братской могилой.
Для Глебовой поиски нового в художественной форме были
неотделимы от духовной работы, противостояния злу. Ее объединение и совместная
деятельность в течение сорока лет, с 1943 по 1973 год, с Владимиром
Стерлиговым, создавшим в 1960-е годы группу художников-единомышленников,
активным членом которой стала Глебова, — не воля случая. Это был высокий
творческий и одновременно сердечный союз. Жили трудно, брались за любые заказы,
но никогда не шли на компромиссы. «Художник творит свое произведение по образу
и подобию своему», — говорила Татьяна Глебова, у его произведений есть тело,
душа и Дух. Тело — «материал, способ и характер рисунка или наложения красок в
живописи», душа — чувства, эмоции художника, а Дух произведения — «высокий
замысел, выражающийся в композиционных обобщениях форм, цвета и рисунка».
Глебова напряженно работала в течение шестидесяти лет,
«тела» и «души» ее произведений изменялись, но цели и замыслы неизменно
оставались серьезными, духовно возрастали. Она считала, что «художники своими
картинами могут спасать души свои и чужие, потому что, соединяя духовное с
материальным, они соединяют два начала в жизни и очищают земное небесным».
Верила, что подлинное искусство всегда религиозно, потому что творческий дух в
человеке от Бога; «даже если художник по недоразумению считает себя атеистом,
одаренность его работает в нем и выводит его бессознательно на верную дорогу».
Творчество Татьяны Глебовой, при ее жизни оставшееся в тени
творчества Стерлигова, с каждым годом предстает все более значительным и
своеобразным.
Большой интерес представляют дневники, теоретические тексты
и высказывания24 и письма Глебовой. Наталья Павловна Александрова
(1907–1997) была многие годы другом Глебовой. Театральный композитор, она
работала в кукольном театре С.В.Образцова со времени его основания. В течение
четырех десятилетий ее музыка звучала в спектаклях театра. Ее скромное
творчество (широкую известность приобрела лишь ее музыка к радиоспектаклям
«Кошкин дом» и «Теремок») было пронизано фольклорными мотивами и несло в себе
дух русской культуры начала XX века. Н.П.Александрова
прожила долгую жизнь и до последних дней сохраняла приверженность музыке,
исполняя на своем домашнем фортепиано произведения Баха, Скрябина, Прокофьева.
Ее дружба с Т.Н. Глебовой шла «в унисон» с дружбой их мужей — Е.В.Сперанского25
и В.В. Стерлигова, и то обстоятельство, что они жили в разных городах, привело
к длительной переписке, которая давала возможность Татьяне Николаевне высказать
свои размышления. Письма Т.Н.Глебовой отражают серьезный и глубокий внутренний
мир, тот стержень, благодаря которому вся ее жизнь была посвящена творчеству,
дают представление о художественной жизни Ленинграда тех лет26.
Примечания
1 Женский портрет. 1930. Холст, масло. 50,5х41,5; Петух
1930. Холост, масло. 51х46,7; Портрет органиста Исайи Александровича Браудо.
1930. Холст, масло. 26х21,5; Натюрморт со снегирем. 1930. Холст, масло. 40х44;
Южный пейзаж. 1930. Холст, масло. 40х50; Пейзаж. Гатчина. Мост. 1950. Картон,
масло. 31, 5х36; Гатчина. Беседка Венеры. 1950. Картон, масло. 38,4х 31,3 (инв.
№ Ж–574); Гатчина. Пруд 1950-е. Картон, масло. 31,6х37,7; Портрет писателя.
1930. Холст, масло. 44х37; Южный. Лазаревка. 1930-е. Холст масло. 49х43;
Кавказ. Пятигорск. 1930-е. Холст, масло. 47х40; Кавказ. Пятигорск. Кипарис.
1930-е. Холст, масло. 37, 5х39.
Сердечно благодарю директора
Костромского музея-заповедника Наталью Викторовну Павличкову и сотрудников,
любезно способствовавших данной публикации.
2 О Т.Н. Глебовой см.: Я буду расписывать райские
чертоги. Татьяна Николаевна Глебова. 1900–1985. Выставка произведения: Каталог.
Статьи. Воспоминания / Вступит. статья и сост. Л. Н. Вострецовой. СПб., 1995.
3 О В.В.Стерлигове (1904–1973) см.: Дух дышит, где
хочет. Владимир Васильевич Стерлигов. 1904–1073. Выставка произведений:
Каталог. Статьи. Воспоминания / Вступит. статья и сост. Е.В.Ковтуна. СПб.,
1995; Мочалов Л. Пластическая система В.В.Стерлигова как симптом
сакрализации культуры // Вопросы искусствознания 1-2/95. М., 1995. С. 229–248;
Пространство Стерлигова/ СПб., 2000; Владимир Стерлигов. СПб., 2009.
4 Мария Вениаминовна Юдина (1899–1970) —
выдающийся музыкант и мыслитель. Познакомилась с Т.Н.Глебовой в 1921 г, до
конца жизни оставалась другом и почитателем творчества Глебовой и Стерлигова, в
1970 г. посетила однодневную выставку их произведений в ГМИИ и написала в книге
отзывов: «Прекрасна выставка. Как нов цвет!.. они — неувядаемы и, славу Богу, в
них нет элементарного «реализма», слывущего таковым, т.е. натурализма! И свой
язык, как у Хлебникова: «Я вижу конские свободы // И равноправие коров». Но и
людские, наши с вами свободы! Видение мира у каждого свое…» — Мария
Вениаминовна Юдина в воспоминаниях современников. М. ; СПб., 2009. С. 105.
5 Глебова Т.Н. О Марии Вениаминовне Юдиной.
Воспоминание. Память. Прошлое. Пламенеющее сердце // Мария Вениаминовна Юдина в
воспоминаниях современников. М. ; СПб., 2009. С. 101. Из-за этой и других
подобных фраз, которые Глебова не хотела вычеркивать, ее воспоминания о Юдиной
долго оставались неопубликованными.
6 Сердечно благодарю В.П.Прямикову и Т.М.Касторскую,
написавших мне, как произведения Т.Н.Глебовой попали в Кострому.
7 См. о нем: Государственный Русский музей. Служение
русскому авангарду: Памяти Е.Ф.Ковтуна. СПб., 1998.
8 Т.Н. Глебова работала и дружила с А.И Порет в первой
половине 1930-х годов, ряд произведений живописи и ллюстрации к детским книгам
были созданы ими вместе, потом пути их разошлись и отношения были строго
официальными. Воспоминания А.И. Порет о годах дружбы с Т.Н. глебовой, И. А.
Браудо и поэтами-обериутами как времени веселия и шумных розыгрушей,
проходивших в квартире порет, превратившейся в своего рода
литературно-музыкальный и художественный салон, частично опубликованы (Мария
Вениаминовна Юдина. Сатьи. Воспоминания. Материалы. М.. 1978. С. 00 ; «Панорама
искусств». Вып. 3. М., 1980), до публикации они были известны в рукописи и
вызвали резкий протест друзей Хармса и Введенского. Т.А.Липавская писала в
январе 1982 г. вдове Введенского Г.Б. Викторовой: «…Более омерзительной и
лживой надуманной рукописи я не читала. Там каждое слово ложь и восхваление
себя… вранье о Браудо…» (А. Введенский. Все. М., 2010. С. 579).
9 Яков Семенович Друскин (1902–1980) — окончил
философский и математический факультет Ленинградского университета, а также
консерваторию по классу фортепиано. На протяжении всей жизни писал философский
дневник «Перед принадлежностями чего-либо», в котором, как и в его переписке,
неоднократно упоминается Т.Н.Глебова.
10 В.В. Стерлигов стал мужем Т.Н.Глебовой только в 1942
г.
11 Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1978. С. 269–270.
12 Друскин Я.С. «Чинари» // Аврора. 1989. № 6. С.
108.
13 18 февраля 1933 г. Хармс записал: «Новый год встречал
с Глебовой. А потом приехали ко мне Алиса Ивановна [Порет, в которую тогда был
влюблен Хармс] и Снапков [художник, впоследствии муж А.И. Порет]. Они
целовались, и мне было это мучительно видеть». (Будет ссылка)
14 А. Введенский и Д. Хармс в их переписке / Вступ.
статья, публикация и комментарий В.Н. Сажина //А. Введенский. Все. М:ОГИ, 2010.
С. 443.
15 Иван Васильевич Ершов (1867–1943) — выдающийся оперный певец, солист
Мариинского театра и профессор Ленинградской консерватории.
16 Глебова Т.Н. О Марии Вениаминовна
Юдиной. Воспоминание. Память. Прошлое. Пламенеющее сердце // Мария Вениаминовна
Юдина в воспоминаниях современников. М. ; СПб., 2009. С. 102.
17 В другом варианте: «Как теленочек-газель, создание
прелестное». Опубликован Е.С.Спицыной по автографу 1936 г. в: Любимая художница
// Театр, № 11, 1991. С. 127.
18 Кондратьев был долго и
безнадежно влюблен в Порет. По словам Е.Ф. Ковтуна, в 1930-е гг. среди
учеников Филонова была известна поговорка: «Что будет с Порет, когда ее
Кондрашка хватит?»
19 Frau Rene — Рене Рудольфовна О'Коннель-Михайловская
(1891–1981) — художник-керамист, график, театральный художник. После революции
занималась художественной керамикой, была дружна с учениками П. Н. Филонова —
А.Порет, Т.Глебовой, В.Сулимо-Самуйлло.
20 А.Введенский и Д.Хармс в их переписке С. 444.
21 В здании на улице Симановского, 26-а (бывший
трапезный корпус Богоявленско-Анастасиина монастыря). В начале 1990-х это
здание было передано Костромской епархии, и работы из экспозиции оказались в
фондах. В средине 1990-х гг. портрет Браудо экспонировался в здании на
проспекте Мира, 5, а в феврале 2010 года на выставке «Петербургский авангард»
из собрания Ярославского художественного музея, в залах муниципальной
Художественной галереи города Костромы, среди других костромских работ
Т.Н.Глебовой. Досадной случайностью оказалась неверная датировка портрета
«1940-е годы», которая перекочевала из акта на временное хранение, где эта дата
была поставлена карандашом со знаком вопроса. Она попала в учетные документы и
в данные каталога «Я буду расписывать райские чертоги», изданного в 1995 г.
Государственным Русским музеем к выставке Т.Н.Глебовой (костромские работы в
ГРМ не экспонировались).
22 См.: Дорога аналитическому искусству! К 80-летию
выставки МАИ в Доме печати. СПб., 2007. С. 2–3.
23 Мария Вениаминовна Юдина. Статьи. Воспоминания.
Материалы. М., 1978. С. 271. В архиве Браудо
(ЦГАЛИ, Ф. 186) сохранились интересные письма М.В.Юдиной.
24 См.: Глебова Т. Воспоминания и размышления /
Публ. Е.Спицыной // Павел Николаевич Филонов / под ред. Н. Мислер, И.
Меньшовой. Дж. Э. Боулта // Experiment / Эксперимент. Журнал русской культуры. Институт
современной русской культуры, Лос-Анджелос, Калифорния. США. 11 (2005) С.
216–264.
25 Евгений Вениаминович Сперанский (1903–1999) —
актер, поэт, драматург, писатель, один из создателей Театра кукол в Москве,
ближайший друг В.В. Стерлигова на протяжении всей его жизни. Е.В.Сперанский в
1983 г. завершил воспоминания о художнике, публикацию которых для журнала «Наше
наследие» в настоящее время готовят Н.В.Александрова и И.А. Стерлигова.
26 Публикация осуществлена совместно с внучкой
Н.П.Александровой, Н.В. Александровой, по хранящейся у нее авторизованной
машинописи. Оригиналы писем не сохранились. Незначительные сокращения отмечены
отточиями в скобках <…>.